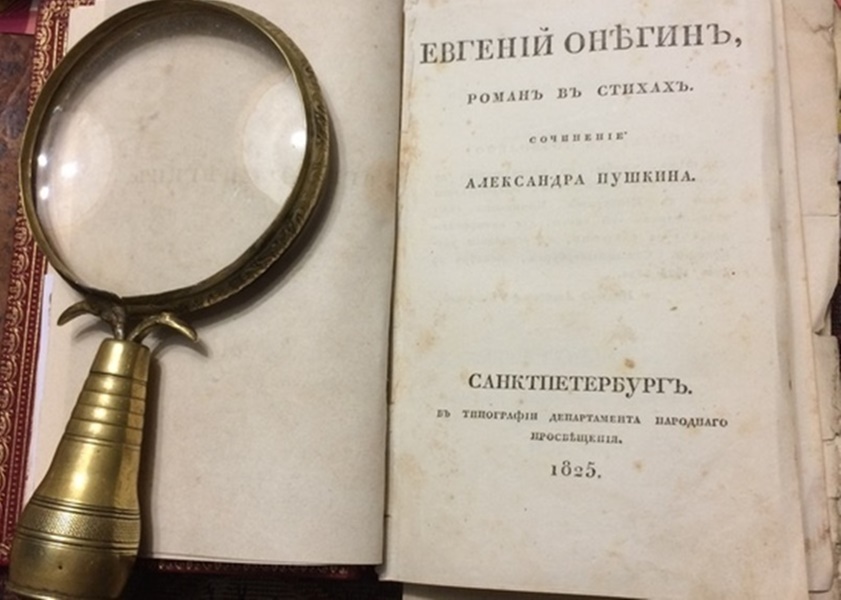XX. ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
Смотри-ка, в последнем абзаце предыдущей главы мы незаметно вернулись в партер Вахтанговского театра. А на сцене уже третий (и последний) визит Онегина в дом сестёр Лариных.
Скандал с Ольгой — скандал, который приведет к дуэли, — Онегин тоже устроил хладнокровно, расчетливо, профессионально. Но Ленский сам виноват: затащил друга в провинциальное сборище сброда (Ахмадулина), а тот пошлую толпу терпеть не мог.
ЛЕНСКИЙ.
В субботу Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать.
ОНЕГИН.
Но куча будет там народу
И всякого такого сброду.
ЛЕНСКИЙ.
И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
«Никого не будет»? — ладно. Онегин сдался. Приехали — а там адская давка, человек сорок: Скотинины с кучей детей, Петушков, Буянов (двоюродный брат Пушкина, дитя Василия Львовича), мосье Трике, ротный командир с полковым оркестром, какие-то Харликовы, Фляновы, Гвоздин… Все с дочерьми! все с собачками! с грудными младенцами!
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей…
Ад, говорю вам, ад. Онегин понял, что влип (и ведь не уедешь!), рассвирепел — и на себя, но больше на Ленского; ладно, думает, я тебе устрою. За что? Всего лишь за то, что нехотя припёрся туда, где ему никто не интересен, где неминуемо обжорство, скука, проклятая брусничная вода, и где за столом перед ним, прямо напротив, сидит Татьяна, бледнеет, краснеет, роняет слёзки.
Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слёз
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенёс.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он, и негодуя,
Поклялся Ленского взбесить…
И уж порядком отомстить.
Сейчас Онегин на глазах жениха, на глазах у всех опозорит Ольгу. Он приглашает её на танец, и она радуется — лестное внимание столичного джентльмена принимает за чистую монету. А это грязный капкан. Ольга для него лишь инструмент.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул её сажает,
Заводит речь о том, о сём;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленьи. Ленский сам
Не верит собственным глазам.
Всё на глазах у жениха. Соседи — изумленная деревенщина — полагают, будто это вспышка влюбленности, а это подлость. За что же мстит? За то, что согласился приехать к Лариным. Да, Ленский его позвал, но ведь не насильно притащил. Потребность сделать гадость ближнему, опозорить, высмеять — характерна для светских людей.
Присутствующие не знают, почему Онегин совершает поступок, находящийся по ту сторону всех норм приличия: приглашает Ольгу снова и снова…
А как в театре показать, что он перешел границы? Как сделать, чтобы нынешний зритель не умозрительно и равнодушно «понял нарушение», а кожей ощутил жуткую подлость? Ведь сегодня нравы проще, и танцуй невеста с приятелями жениха хоть до упаду — никто внимания не обратит. Да хоть целуйся…
И вот тут театральное решение. Блистательная сцена.
С тех пор как Ленский вернулся из Германии и подарил Ольге учёности плоды, она ни на секунду не расстается с аккордеоном (вероятно, даже спит с ним). Вот и сейчас, на именинах сестры, в толпе гостей, Ольга с любимым аккордеоном, прижимает его к груди.
Немая сцена. Расчетливый холодный гад подходит к Ольге сзади, просовывает руки у ней под мышками и кладет свои ладони на аккордеон. И поглаживает клавиатуру. У зрителей невольно в ушах звучит русское слово «лапает».
Все сперва таращатся, а потом прячут глаза — не могут глядеть на это бесстыдство. И бедный Ленский видит, что милый друг делает с его невестой.
За аккордеон — но понятно: за грудь. За душу. За музыку. Лапает музу Ленского. Играет на чужих чистых чувствах.
Милый друг — брюнет, бриолин, пробор, бледное лицо, тонкие губы, беспощаден и к другу, и к бедной Ольге, которая всё пытается улыбаться сквозь слезы стыда и позора, и к несчастной Татьяне, и ко всей этой деревенщине, которая не умеет, не знает, как осадить столичную тварь. Только убить.

Дуэль поставлена как страшный сон.
Начинается реалистично, по всем правилам. Онегин и Ленский берут пистолеты, расходятся. Секунданты, как полагается, утаптывают снег, утаптывают тщательно, долго. Поэма в этом месте тоже предельно реалистична, с точными числами шагов.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развёл по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.
Некоторые читатели ХХI века слабо представляют себе условия дуэли. Что-то такое слышали про тридцать два шага, но дистанция стрельбы куда короче. После команды «сходитесь!» дуэлянт может стрелять в любой момент, очередности нет. Но расчёт и доблесть толкают подойти ближе, чтоб стрелять наверняка. Между начальными позициями — 32 шага, между внутренними барьерами (дальше которых двигаться нельзя) обычно бывало 10–12 шагов, в особо яростных случаях — 8 и даже 6.
«Теперь сходитесь». Хладнокровно,
Ещё не целя, два врага
Походкой твёрдой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет, молча, пистолет.
Неловко в такой ужасный момент заниматься арифметикой, но уж простите: каждый сделал (4+5) девять шагов, а вместе — восемнадцать. От тридцати двух, значит, осталось четырнадцать. Меньше десяти метров.
А на Вахтанговской сцене — так: звучит команда «Теперь сходитесь!», и немедленно реализм прекращается, начинается кошмар. Ленский, растерянный, залезает на какие-то лавки, секунданты залезают туда же и сдирают с него, покорного, рубаху; а потом через всю сцену, чёткой ледяной офицерской походкой, к голому по пояс Ленскому идёт милый друг, подходит вплотную, обнимает за шею левой рукою, прижимает его к себе — — и Ленскому, который не понимает, что происходит, кажется, будто это дружба, примирение — — но в правой руке Онегина пистолет, ствол упирается в голый живот. — Выстрел, Ленский начинает оседать.

Дуэль превратилась в какое-то гангстерское голливудское убийство с замедленной съемкой падения, потому что Ленский, колыхаясь, падает долго, очень долго.
Такой выстрел (в живот, в упор) мы видели не только в «Крестных отцах», не только в «Белом солнце пустыни» (где Чёрный Абдулла, явно думая о чём-то своём, равнодушно стреляет в живот старому смотрителю музея). Такие объятия — на все времена.
«Иоав был одет в воинское одеяние свое и препоясан мечом, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил.
И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И взял Иоав правой рукою Амессая за бороду, чтобы поцеловать его.
Амессай же не остерегался меча, бывшего в руке Иоава; и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил удара, и тот умер».
2-я книга Царств, 29, 8-10.
Вот так, мадам, в Святом Писании выглядят братские поцелуи, вот так там интересуются здоровьем.
…Далеко от авансцены, на заднем плане, еще в начале спектакля, Онегин, в думы погружённый, тупым кием вооруженный, иногда играл на бильярде. Резкий треск бильярдных шаров предвещал неотвратимый выстрел. Но когда это наконец случилось, и мёртвый Ленский рухнул, молодой Онегин вдруг понял, что убил. Его затошнило, он зашатался. Единственный раз за весь спектакль у него подкосились ноги.
Презирать людей и чувства, казалось бы, легко. Но вдруг стать убийцей…
Что ж, если вашим пистолетом
Сражён приятель молодой…
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражён, Онегин с содроганьем
Отходит…
Вот так, с содроганьем, на подламывающихся ногах, отходит от трупа Онегин—Добронравов.
Старый Ленский стоит в центре сцены и даже не оглядывается туда, где он лежит молодой и мертвый.
А старый Онегин в углу сцены поднял воротник черного пальто, ушёл в него, закрыл лицо, закрылся, только глаз торчит. Знает, что натворил. Помнит. И косится на рваное письмо Татьяны в рамке на стене (о письме потом).
И все со сцены утекли туда, в колышущееся зеркало, в черноту забвения… Ах, если бы забвения, но ведь вспоминаешь, вспоминаешь.
И снова выстрел — это катится следующий шар… Да, брат Евгений, теперь каждый раз, играя на бильярде, будешь вспоминать, как убил.
ХХI. ЗАЧЕМ УБИЛ?
…Но Менелай, из ножен исторгнувши меч среброгвоздный,
Прянул, герой, на Пизандра, а сей из-под круга щитного
Выхватил медный красивый топор, с топорищем оливным:
Сей поражает по шлему, а тот наступавшего — по лбу
В верх переносицы: хряснула кость, и глаза у Пизандра,
Выскочив, подле него на кровавую землю упали.
Гомер. Илиада.
Как вам старик Гомер? Оба глаза от удара вылетают из глазниц и падают на окровавленную землю, а этот (теперь безглазый) Пизандр ещё стоит — ещё не понимая, что ему пи… Пизандр, короче, сейчас начнёт, колыхаясь, падать на собственные изумленные глаза (что гораздо хуже, чем сослепу наступить на собственные очки, мадам). Даже в американских боевиках не припомним такого жуткого кадра.
Но у Гомера есть и круче. Например:
Быстро его Мерион и настиг и сверкающим дротом
Между стыдом и пупом ударил бегущего, в место,
Где наиболее рана мучительна смертным несчастным:
Так он его поразил; и на дрот он упавши, вкруг меди,
Проколотый, бился в крови, как бычок несмирённый.
Бедняга бьётся вокруг копья, пригвожденный к земле за такое место… Теперь вы знаете, где наиболее мучительна рана: между пупком и лобком; точнее — тем местом, которое Гнедич (на 15 лет старше Пушкина) перевёл как «стыд» (перевод «Илиады» вышел в 1829‑м и восхитил многих, в том числе Пушкина).
А может, вам больше понравится это:
В грудь он копьём поражённый, ударился тылом о землю.
Спрянул с коней Гипполох; и его низложил он на почву,
Руки мечом отрубивши и голову с выей отсёкши;
И, как ступа, им толкнутый, труп покатился меж толпищ.
Неплохо! Фонтанируя кровью, труп — без рук и без головы (отрубленной вместе с шеей) — катится, как ступа, как чурбак, сквозь возбужденную ораву — чем не Тарантино? А какой звукоряд! Вы догадались ли прочесть вслух хотя бы последнюю строчку? Ступ-толк-труп-тилc-толп — именно так катится толстенное бревно, причем первый «ступ» — это оно свалилось со штабеля, чтобы потом покатиться, давя траву и с хрустом («трруп») давя отрубленные прежде с него сучки и ветки. А «тыл» (поясняю для вас, мадам, ибо, полагаю, вы далеки от военной терминологии), «тыл» обычно находится далеко позади переднего края, который фронтовики называют «передок», но в данном случае «тыл» расположен с другой стороны от «стыда»; вот и всё.
Эпиграф же мы выбрали не за красивые глаза (выскочившие и т.д.), не за эту глазунью, а за «медный красивый топор, с топорищем оливным». Оливным! — то есть сделанным из оливы, чьей эмансипировавшейся племянницей является (см. Набокова) сирень. Прочнейшее дерево! Теперь уж вы по достоинству оцените насмешку Пушкина над Татьяной, которая на бегу кусты сирен переломала.
… Зачем греки и троянцы убивают друг друга, всем известно (ну или принято считать, что всем известно). А зачем Онегин Ленского убил?
Об этом никто не думает. Такого вопроса не задают. Так было всегда — о чём тут спрашивать?
Оруэлл (первым ли?) описал сегодняшнего читателя. Он берет газету или включает радио и слышит, что Океания (Америка, Грузия, Украина, etc.) всегда была врагом. На самом деле она ещё вчера была союзником, но этого никто не помнит, не хочет помнить, научился не помнить, не понимать, не связывать события, не анализировать — «зачем копаться?».
В жизни такое случалось не раз. Например, в 1939 году — почти за 10 лет до того, как был написан самый издаваемый роман «1984».
Начиная с 1936‑го советские газеты клеймили немецких фашистов; СССР вывез детей из Испании; все школьники знали, что гитлеровская Германия — враг; пионеры и комсомольцы писали об этом в каждом номере каждой стенгазеты. Вдруг — рассказывала мне комсомолка 1930‑х — две недели тишины, о Германии ни слова, а потом внезапно: Германия — друг! Сталин приветствует Гитлера! визиты, общие цели, изъятие всего антинемецкого, срочная отправка антифашистов в ГУЛаг.
Когда в 1954 году Н.Н.Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н.Н.Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное ещё во времена германо-советского пакта.
Эренбург. Люди, годы, жизнь.
Это присказка. Теперь сказка. Дуэль Онегина описана очень подробно, детально. Опоздал, извинился, отсчитали шаги, зарядили, выстрел, Ленский убит. Ну да, так случилось, жаль мальчика.
Друзья мои, вам жаль поэта…
Пушкин обращается к современникам, к современницам (помните Варю, которая весь день плакала, прочитав о дуэли?). Кстати, было ль вам жалко хоть одного из зверски убитых людей в трёх (см. выше) фрагментах «Илиады»? Вероятно, нет. Вы относитесь к этому спокойно, как к данности. Снег белый, вода мокрая, соль солёная, Ахилл убит, Ленский убит — так всегда. Это константы, они неизменны и вопросов не вызывают. Только ребёнок спрашивает: почему лёд холодный? почему огонь жжется? (На все подобные вопросы самый правильный ответ: так устроен мир.)
Но вдруг спрашиваешь себя: а зачем Онегин Ленского убил? Зачем? Да, вызов, дуэль, но ведь мог бы выстрелить мимо; ну или в ногу… Ведь ненависти не было; жажды убийства не было.
Наоборот! Прямо написано: Онегин жалел, что вышла ссора, что принял вызов:
И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений…
Итак: себя корит, Ленского всем сердцем любит; и — убивает. С десяти метров стреляет в сердце. Зачем?!

Начинаешь спрашивать всех подряд, и сегодняшние жители России — и молодые, и пожилые — отвечают: «Убил, чтоб его самого не убили». То есть убил из страха за свою жизнь. Такой ответ — очень яркое (и печальное) доказательство: самосознание людей, населяющих Среднерусскую возвышенность и её окрестности, изменилось более чем радикально. Прав Лотман, начавший в своём Комментарии 1980 года перечисление «лексически непонятных современному читателю слов» с понятий чести. Прошло ещё 37 лет; при переиздании теперь следовало бы поправить: совершенно непонятных.

Дуэли из-за задетой чести случались постоянно. Теперь их нет совсем. Неужели сегодня никто ничью честь не задевает? Напротив, оскорбляют открыто и грубо. Значит, дуэлей нет не потому, что нет оскорблений, а потому, что оскорблённые не вызывают оскорбителей к барьеру. Прощают по-христиански? Но ведь не все вокруг христиане. Нет, дело не в прощении. Месть не исчезла. Просто мстят иначе — придумывают подлости, клевещут, нанимают убийц… Всё это было и тогда — во времена Пушкина. Однако ж и дуэли были.
Ответ простой: честь перестала быть абсолютным приоритетом. Бесчестье теперь не делает человека изгоем. Потому сегодня человек и отвечает: «Онегин убил Ленского, чтоб самому не быть убитым» — ответ в той системе координат, где честь вообще не существует. Её нет, вот и задеть её нельзя.
Онегин не таков. Страха за свою жизнь у него нету. Вот его характеристика из Первой главы:
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань и саблю и свинец.
Кутила, гуляка, бабник — мы это тут проходили. А что такое «брань, сабля и свинец»? По первому значению это война, сражения. Но Онегин не воевал; это дуэли. Что ж, если оскорбляешь направо и налево, наставляешь рога направо и налево… А «разлюбил» не значит испугался; просто надоело (как и «дружба»); стал не столь задирист.
Если ж Онегин — это Пушкин (как многим казалось еще тогда, при жизни Автора), то уж точно не трус. Пушкин способен есть черешню под дулом пистолета (так ведёт себя герой «Выстрела», см. «Повести Белкина»), ничего не боится, много раз рискует жизнью, бесстрашно ставит себя под пистолет врага. Но — разлюбил, утратил интерес (так теперь взрослеет вчерашний зацепер, если случайно остался жив). Из 26 дуэлей Пушкина восемь — в 1822 году, потом по одной в год, а с 1830‑го по 1835‑й включительно — ни одной. Про 1837‑й лучше не вспоминать.
…Зачем убил? Набоков — циник, но даже ему не пришло в голову, что Онегин убил Ленского, боясь за себя. Вот его «объяснение»:
Психоаналитик отметил бы жутковатое, как во сне, поведение Онегина в то утро. Онегин ведет себя так, как он никогда бы не стал себя вести в нормальном состоянии душевной бодрости. Он наносит Ленскому необоснованное (второе) оскорбление, сильно проспав, — из-за чего возбужденный юноша вынужден несколько часов ждать на ледяном ветру. Он, зная, что секунданты должны быть того же социального статуса, что и участники дуэли (т.е. дворянами), является со слугою, еще раз глупо оскорбляя Ленского. Он первым производит выстрел с намерением убить, что совсем не в его характере. Ленский, без сомнения, жаждал крови, но Онегин, бесстрашный и насмешливый стрелок, будь он в здравом уме, конечно, отложил бы свой выстрел; напротив, оставшись в живых, отказался бы от выстрела, т.е. разрядил свой пистолет в воздух. Когда Ленский падает, кажется, что Онегин вот-вот проснётся и поймёт, что всё было сном.
Мы взяли в кавычки слово «объяснение», ибо все эти длинные фразы Набокова о страшном сне легко заменяются кратким «не могу понять».
Но мысль о страшном сне пришла Набокову не случайно. У Пушкина прямо сказано про «страшный, непонятный сон» — так, будто Автор и сам не понимает своих героев:
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно…
Зачем Онегин Ленского убил? — недоумевает Набоков. Смешной вопрос. Писатель, который со своими персонажами вытворял немыслимые штуки (см. «Дар» и др.), увлекся настолько, что поверил, будто у Онегина есть свобода воли. Правильный вопрос звучит иначе: зачем Ленского убил Пушкин?
Приехал в Апраксино Пушкин, сидел с барышнями и был скучен и чем-то недоволен. Разговор не клеился, он все отмалчивался, а мы болтали. Говорили мы об «Евгении Онегине», Пушкин молча рисовал что-то на листочке. Я говорю ему: зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала…
— А знаете, где я его убил? Вот где, — протянул он к ней свой рисунок и показал место у опушки леса.
А.П.Новосильцева.
Так зачем? Ответ прост. Пушкину это было необходимо. Ничто, кроме смерти, не заставляет так глубоко задуматься о жизни. Тем более — смерть молодого, светлого, многообещающего… Он уносит с собою тайну! — мы же не знаем, что он совершил бы в жизни — какие открытия сделал бы, какие книги сочинил.
Ленского не Онегин убил, а Пушкин. Был нужен «повод» для потрясающих стихов. (На сцене их читает Олег Макаров — лучшее и пронзительное место в роли старого Ленского.)
Быть может, он для блага мира,
Иль хоть для славы был рождён;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времён,
Благословение племён.

«Непрерывный звон в веках», «гимн времен», «благословение племен» — это сверхчеловеческие притязания, невероятные надежды. И ведь всё сбылось (пусть пока всего лишь на два века). Но тут есть и большее.
«Животворящий глас» — это голос Бога. Кто же ещё голосом (словами) творит жизнь? Это, конечно, не о Ленском. Ленский тут — просто предлог для подъёма на немыслимую высоту.
Человек умер и унёс с собою Святую тайну, и для нас погиб животворящий глас. Именно это сказал Достоевский в знаменитой Пушкинской речи (1880): «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».
Достоевский говорит о тайне, которую он разгадывает, употребляя размытое «мы» — в надежде, что он не одинок в этой работе. Но мы знаем, что тогда разгадать никому не удалось. А теперь и надежды нет, никакой. Был ли шанс разгадать? — неизвестно. Но теперь — ровно настолько, насколько со времён Достоевского мы продвинулись в создании роботов, настолько удалились от разгадки той великой тайны. Попросту — бесконечно. В Яндексе разгадки нет, а другие методы умирают. Нет надежды, что Бог, Который говорил с пророками и поэтами, согласится говорить с роботом.
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Что написал бы Пушкин — приёмник чудных звуков? Он унёс с собою тайну, и для нас погиб животворящий глас. То есть какая-то мысль, которая целый бы мир озарила. И не как водородная бомба — мысль Сахарова, Харитона и др. — не как новая мощная смерть, а как новая жизнь. Придумал же кто-то колесо, и покатилась цивилизация. И докатилась.
В романе Саймака «Город» умирает мыслитель. Умирает потому, что к нему отказался лететь врач; умирает, не успев закончить работу, которая «преобразит солнечную систему, за несколько десятков лет продвинет человечество вперед на сто тысячелетий. Речь идёт о совсем новой перспективе, о новой цели, которой мы себе и не представляли до сих пор. Совершенно новая истина, понимаете? Которая ещё никому не приходила в голову».
Мыслитель умер, унёс с собою тайну, и человечество погибло. На Земле остались муравьи, роботы и собаки.
(Впрочем, всё это тут преждевременно. Это из ХХХVII главы, а попало, как видите, в ХХI‑ю. Вообще всё неправильно. Кусок четвёртой части до сих пор валяется, а у вас в руках — седьмая. Вот и думай — куда приткнуть?).
…Смерть важнее рождения. Рождение вне твоей воли, твоего разума; можно даже сказать: вне твоей жизни. Смерть — итог. Не будь Пасхи — кто бы праздновал Рождество.
Про рождение не говорят «глупое» либо «героическое». А вот смерть может быть и глупой, и геройской. Смерть может быть и подвигом, и жертвой.
Смерть — это человеческое, а рождение — биологическое. Рождаешься, как котёнок, а умираешь как герой, как мудрец, как никто или как крыса — зависит от тебя.
Онегин выстрелил… Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет, молча, пистолет,
На грудь кладёт тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Смерть Ленского — мгновенная, тихая, скромная. Он не кричит, не корчится от невыносимой боли, не бьётся в судорогах смертельной агонии. Никаких гомеровских кровавых красот; а ведь лучшего момента для яркого и пышного описания не найти во всём романе. Но никаких движений. Никаких звуков.
Пушкин не раз видел сам и обсуждал с друзьями жуткие страдания дуэлянтов. Лотман в своем комментарии приводит любопытнейший пример.
Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно спокойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. «Ah!, — сказал он, — iI en voulait a ma vie! A la barriere!» (А! он покушается на мою жизнь! К барьеру! — фр.) Делать было нечего. Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметева в живот! Присутствовавший на дуэли приятель Пушкина Каверин (с которым Онегин в Первой главе встречался у Talon, известный кутила и буян), увидав, как раненый Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу, подошел к раненому и сказал: «Что, Вася? Репка?» — в смысле: «Что, вкусно?»
Всю эту физику Пушкин полностью отбросил. В смерти Ленского телесных страданий нет вообще. Ничто не отвлекает. Все мысли только о душе и судьбе.
Довольно. Читатель не в силах и не должен бесконечно грустить, читая наш роман про поэму. Антракт.
Продолжение следует.