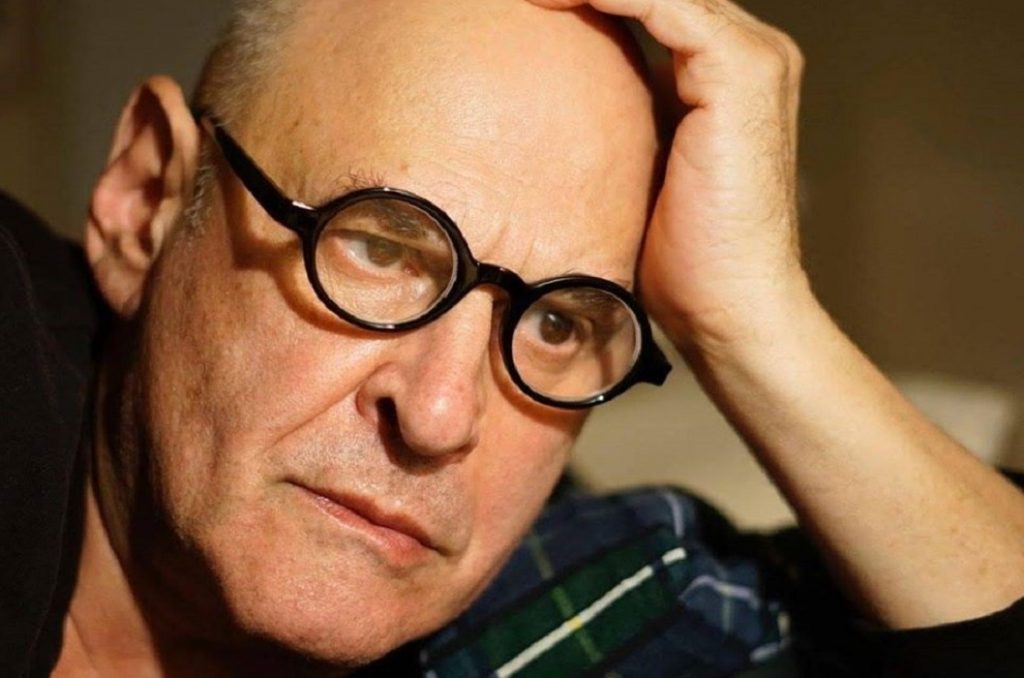В некотором смысле российской политологии нет. Она, конечно, есть, ее преподают в вузах, политологические темы обсуждают на различных форумах, от путинского Валдайского до оппозиционного Форума свободной России; от политологов тесно в телевизоре, на радио, в Telegram-каналах и Фейсбуке, но политологии в том смысле, как ее понимают на Западе, как осмысление и структурирование политики, в России нет.
И не только потому, что в России сама политика фиктивна, а наука о фикциях — скорее, богословие, если ни сама религия. Помимо политики в России общество тоже во многом фиктивное образование, оно вроде как и общество, и в то же время зависит от государства, которое периодически сыплет корм в кормушку. А если нет общества (или оно так слабо, что не сумело за столетия обеспечить существование так называемых институтов, в том числе — партий, то есть своего фундамента), то кто будет заказчиком и потребителем политологии?
В этом смысле и политологов как таковых в России нет, потому что политология — не поэзия, писать в стол политологический трактат не вполне резонно, политологическую статью не будешь выдумывать как стих, предвкушая, как вечером, при свете лампы, привлекающей черные толпы монашествующей мошкары, будешь читать ее друзьям с их смутными улыбками одобрения.
Политология — часть борьбы за политическую власть, ее наиболее удаленная от линии фронта часть политологических рвов, траншей и полигонов. А при том ущербном состоянии общества, в котором есть как бы одна наиболее представительная граница: между теми, кто государственную власть поддерживает, и теми, кто ее вообще не считает законной, но при этом бессилен как мошкара из предложения выше, сама политология в виде профессии быстро превращается в род публицистики, чем по большей части российские политологи и занимаются.
Поэтому политология в России имеет совершенно другую природу — не политическую, а психологическую. Политология имеет здесь цель не обосновать притязания на власть, а доставить самоуспокоение (или самоудовлетворение) в доказательствах собственной правоты. Местная аудитория слушает политологов для подтверждения своих позиций, по большей части символических, далеких от политических поползновений, но позволяющих считать власть ответственной за многое, если не все, в соответствии с расширенным толкованием формулы: прошла весна, настало лето, спасибо партии за это. Где партия, это некая воображаемая общность, консолидирующаяся вокруг близких нам самооправданий.
Нет, конечно, есть ряд по виду и жанру политологических ресурсов, где политология вроде как похожа на то, что под этим понимается в Европе и Америке: она похожа инструментарием, академическим тоном, аппаратом сносок и цитирования, но, кроме прикладного значения, другого не имеет. Заказчик неизвестен или не определён.
Но, может быть, именно поэтому, эрзац-политологией полны телеэкраны, эфиры, социальные сети: почти все говорящие головы выступают именно в качестве политологов — то есть людей, говорящих на политологические темы.
Но так как в отсутствии многообразия политических границ — знаковой является только граница между за и против, то и политология превращается в борьбу за большую или меньшую аудиторию, способную откликнуться на вызов прикладной политологии. Именно потому, что политики и политологии нет, запрос на политологию невероятно высокий, разговоры на политологические темы компенсируют в слушателях и читателях ощущение неполноценности, которое если чем и вытесняется, то политологией по-русски.
Наверное, правильнее было бы называть это популярной политологией, а политологов, ее представляющих, поп-политологами. Но и в этом российская политология ничем не отличается от многих из заимствованных культурных инструментов. А раз так структуру этой политологии также можно рассмотреть, как структуру любого явления: от многообразия инфузорий до видов искусства.
Так как принципиальная граница в русской культуре одна, первым и, казалось бы, очевидным признаком различения политологов можно назвать степень близости-далекости от власти и ее денег. Почему этот признак не кажется мне столь существенным (хотя и самым распространённым), что я стреножил его осторожным казалось бы? Потому что само устройство российского общества не позволяет с большой точностью определять присутствие или отсутствие государственных денег.
Скажем, Эхо Москвы, этот оживленный перекресток разнообразных политологических путей, — частное, государственное или общественное СМИ? И не отвечая на этот риторический вопрос, зададимся другим, не менее необязательным: а нам известно об источнике денег для самых что ни есть оппозиционных проектов, ангажирующих те или иные политологические силы? Кто их заказчик? И какие у него цели? Нет ли здесь закона сообщающихся карманов?
Но даже с этими оговорками увидеть некоторый спектр — не всегда явный, очень часто с мнимыми сигналами родственной принадлежности — в разнообразии политологических позиций можно.
В нижеследующем обзоре, не претендующем на какую-либо полноту или репрезентативность, я по ряду причин не буду касаться политологов, находящихся, предположим, за фигурой Федора Лукьянова. И не потому, что его политологические способности представляются мне ниже других, а его акцентированная лояльность патрону полностью выводит его анализ из политологического поля. Ещё лет 10 назад в его Совете по внешней и оборонной политике состояла большая часть ныне самых известных российских политологов, не стесняющаяся его близости к Кремлю. А для выявления разницы между ним и, предположим, Александром Бауновым или Екатериной Шульман, надо будет приложить еще ряд усилий. Но он просто выбран для демаркации: все, что за этой воображаемой линией горизонта и ближе к Спасской башне, рассматриваться не будет.
А вот многое из того, что эту границу пока не переступило (а может, и не переступит — кто по причине того, что вернуться в Сорренто точно уже не позовут, кто по иным соображениям), попасть в качестве фигурантов в строй рассмотрения может.
Есть ли ограничения с другой стороны? Есть. Так как политология сейчас замена лирической поэзии и любимая забава потребителей русского политического контекста (или того, что им предстаёт), то в политологии заметны две группы: переместившиеся в поле политологического анализа приемы из той или иной академической сферы: экономики, социологии, юриспруденции, даже географии, и пришедшие в политологические штудии из литературы и других искусств. Не считая этих последних чем-то хуже и не желая подвергать политологов от искусства дискриминации, эту группу по разным причинам (прежде всего, из-за сложности выявления видовых черт) я оставляю за границами рассмотрения.
Это не означает, что, скажем, Шендерович с его эмоциональной политологией хуже Белковского с его кокетливой политологией, или аргумент — а посмотрите на Швейцарию — менее убедителен, чем уверенность во влиянии на политику магических циклов. Просто словарь Белковского более совпадает со словарем политологии, чем со словарем гражданской лирики Некрасова, поэтому Белковского, как политолога, исследовать, возможно, более осмысленно.
Надо ли говорить, что такие понятия как ум и честность не будут рассматриваться, прежде всего, по причине затруднительности непротиворечивого определения этих или похожих психологически фундированных качеств. Речь будет идти только о доминирующих приемах, областях знаний, из которых тем или иным политологом черпается часть принципиальных аргументов, а также о дифференциации наживки, которую, дополнительно к аргументам, тот или иной политолог скармливает своей аудитории.
А так как наиболее ходовым товаром в авторитарном обществе, балансирующем между авторитаризмом и дорогой к храму тоталитаризма, является страх, то ранжировать имеет смысл именно структуру страха, который политологи продают своей аудитории для увеличения авторитета.